


Снег ночной, снег ночной
От стужи рябинка-бедняга...
Песня Лунина
Играет за стеною кто-то...
Ахматова в Париже
Я верю: Бог меня хранит
Ю. М. Магалиф
как пейзаж, выполненный акварелью, гармонична и мелодична,
как тихая грустная песня, словом, в лучшем смысле непарадна...
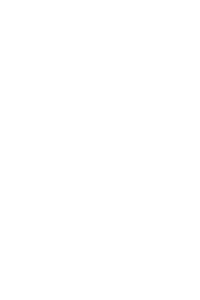
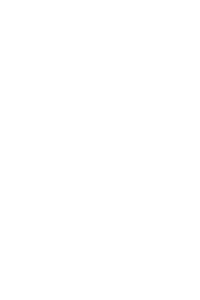
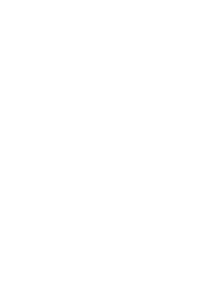
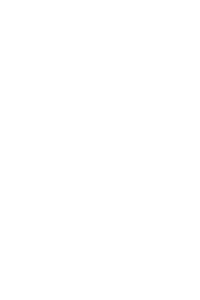
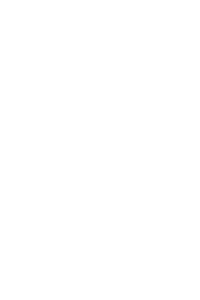
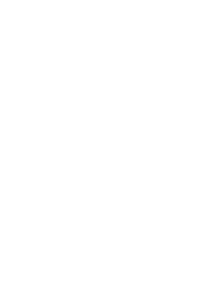
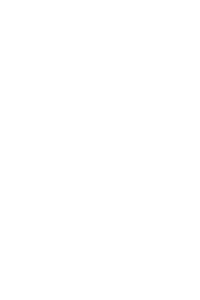
Ах, какие душки!
Драные коробочки,
старые игрушки..
Старые, забытые,
Чуточку побитые –
Шарики, фонарики,
Бусы да хлопушки.
Век игрушек стареньких
К удивленью долог –
Сколько они видели
Новогодних елок!
Сколько было нежностей
Слышать суждено!
Сколько свечек тоненьких
Было сожжено!
Ах, какие милочки!
Ах, какие душки!
Жизни, словно свечечки,
Судьбы,
как игрушки...
29 декабря 1996
Приветствуют нас всюду на планете
(Наверное, не меньше, чем вчера),
Но говорят: «Артисты – это дети!»
И думают, что наша жизнь — игра.
А сердце каждого из нас в ответе
За сочетанье Правды и Добра.
Мы зорко видим при вечернем свете
И к этому готовимся с утра.
Смеемся иногда.
Но чаще – плачем,
Не слишком верим маленьким удачам,
Провалы не умея позабыть...
И низко кланяясь без лицемерья,
Мы простодушно ждем к себе доверья.
Актеры – дети?..
Очень может быть.
От стужи рябинка-бедняга
Дрожит и почти не горчит.
Листва шелестит, как бумага,
Как старые письма, шуршит.
Как письма прошедшего лета,
Где были дожди без границ,
И столько полдневного света,
И столько полночных зарниц!
Беспечно, лугами и лесом
Мы шли босиком по земле.
И долго под старым навесом
Фонарик горел на столе...
Давай будем жить в убежденье,
Что лето опять впереди!
Немного, немного терпенья
И снова – сирень и дожди!
И снова рябина в окошко
Таинственно станет стучать;
И снова соседская кошка
Попросится к нам ночевать...
(Из радиопостановки «Декабристы в Сибири»)
Один погас... Другой погас...
В паденье звезды угасают.
Все меньше остается нас,
Все меньше остается нас, –
Нас так ужаcно не хватает!
Святое дружество храня,
Лишь об одном прошу сердечно:
Не забывайте вдруг меня,
Не забывайте вдруг меня, –
А я вас помнить буду вечно!
И скорый суд, и скорбный труд –
Нам есть что вспомнить, слава богу!
Как тихо ангелы поют,
Как тихо ангелы поют,
Сопровождая нас в дорогу.
Идем на ощупь, без огня,
Туда, где путь дымится Млечный...
Не забывайте же меня,
Не забывайте же меня,
И я вас помнить буду вечно!
Вся наша цепь – звено в звено –
Сибирью скована отменно.
Нас только дружество одно,
Да! – только дружество одно,
Оберегает неизменно!
Я верю на исходе дня,
Что ночь не будет бесконечна!
Вы не забудете меня, –
Нет, не забудете меня!..
И я вас помнить буду вечно!
Играет за стеною кто-то:
Все очень робко, все не так...
Да, он конечно, знает ноты,
Но сразу видно – не мастак.
На конкурсах не отличился;
А просто, музыку любя,
Играть немного научился,
Как говорится, «для себя».
Ну, что ему эстрада, сцена
И прессы лестные слова?..
Играет сбивчиво Шопена,
Партиту Баха «номер два».
… Люблю концертных залов запах,
Огней торжественных хрусталь.
И – длинный зверь на черных лапах –
Большой стейнвеевский рояль.
Выходит бледный, элегантный
Международный концертант...
И лихостью невероятной
По залу хлещет «Вальс-брильянт»;
Здесь – ни единой нотки мимо.
Здесь – тренировка и расчет.
Здесь так естественно и зримо
Тяжелый пот со лба течет.
Гляжу на пальцы музыканта.
Слежу за техникой одной, –
А думаю про дилетанта,
Про вальс неспешный за стеной.
Там все неровно, все незвонко,
Наивно обнажен мотив...
На первые шаги ребенка
Походит этот примитив.
Да, мастерству – все наши чувства!
Но кто ответит: почему
Нам иногда милей искусства
Лишь приближение к нему?..
Тогда Модильяни писал Ваш портрет, –
Казалось, что сходства ни капельки нет,
А все-таки – очень похоже...
Вода зеленела в замшелом пруду,
Весна и скамья в Люксембургском саду;
И ветер прохладный до дрожи...
Вердена читали вдвоем наизусть.
А зонт был дырявый – и ладно, и пусть!
Но все же – подобие крова.
Недолго осталось до первой войны –
Три кратких зимы, три протяжных весны;
Об этом в газетах ни слова.
К художнику слава еще не пришла –
Еще не свершил он земные дела
(Он был как двойник Антиноя!)...
А Вам суждено причаститься всерьез
Блокадного хлеба и царственных роз –
И время настанет иное...
Пред смертью Вы снова придете сюда –
В пруду заблестит Вам все та же вода.
И прошлое, сквозь аритмию,
Пройдя по весенним лиловым следам,
В саду Люксембургском откроется Вам.
...И станете рваться в Россию!
Я верю: Бог меня хранит
От беспричинного волненья
И от бесцельного стремленья,
И от неправедных обид.
То, что грядущее сулит,
Я в темноте своей не знаю,
Но безоглядно принимаю
И верю: Бог меня хранит.


Все, к чему прикасался поэт...
Кинофильм
Стая
В конце пути (Рембрандт)
Художнику
Нет, я не зря, не зря живу...
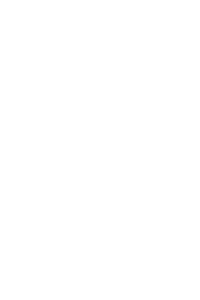
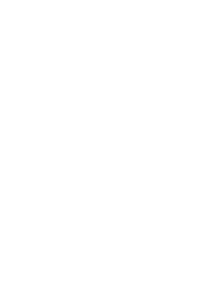
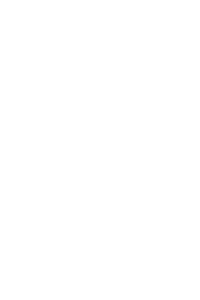
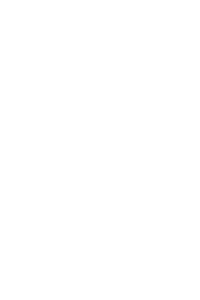
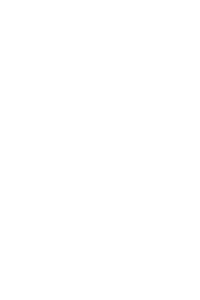
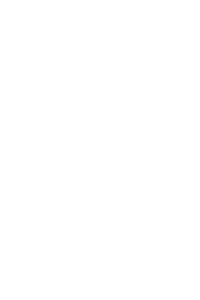
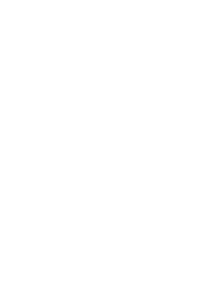
Цыганская скрипка, цыганская скрипка
Зажата небритою левой щекой.
Качается мерно плетеная зыбка,
И пляшет смычок над ночною рекой.
Костер то взовьется, то снова завянет.
Стоит за кибиткой стреноженный конь.
А скрипка над сердцем все тянет и тянет
Мотив полуночных тревожных погонь...
Я в таборе скрипки старинной не слышал
Но утром, как прадед, молюсь на восток;
«Спаси наши души, цыганские души
Святой Николай – охранитель дорог!»
Бывало, по звездам студеным гадая,
Я шубу свою продавал в декабре;
И, обувью драной траву приминая,
Стремился ко храму на дальней горе.
Я бацал «цыганочку» на пересылке;
Я в дуло конвойной винтовки глядел;
Болотную воду тянул из бутылки
И всем, кто хотел, «Не вечернюю» пел.
Рожденный под знаком бродяг-музыкантов
Я с детства попутные песни шепчу;
На плохо подкованной кляче таланта
Из юности в старость неспешно скачу...
А тут – и удачи, а тут – и ошибки;
Бывало, себя самого забывал...
Но треснувший голос прадедовской
скрипки
В пути многократно меня окликал.
Так пусть этот зов – этот голос природы –
Окликнет и правнуков дальних моих, –
Мы родом из племени темной свободы:
Кибитка да скрипка, дорога да стих...
Все, к чему прикасался когда-то поэт,
Все должно быть навеки священным.
Этот дом излучает особенный свет,
Эта комната – в мире нетленном.
И тетрадь, и перо, и ореховый стол,
В недочитанной книге закладка...
Под раскрытым окошком чубушник зацвел;
Маргариток застенчивых грядка...
Здесь работал поэт; ведал боль да любовь,
Пробиваясь к душе человека.
И летит его древняя сильная кровь
По артериям нашего века!
Да, конечно, – и самый пустячный предмет
Нам покажется здесь драгоценным:
Все, к чему прикасался великий поэт,
Все должно быть навеки священным.
«Юность поэта»,
В древнем пруду
старых лип отражение...
Длится навеки
лицейское лето
И царскосельское благоволение...
А Пушкин-»француз» –
это Валька Литовский.
А Пущин «Жанно» –
это Толька Мурузин.
А Липкин Олег –
это Дельвиг.
Готовьтесь,
Дети,
служить поэтической музе!
Милые отроки...
С киноэкрана –
Очи, как свечи с рождественской елки!..
Слава является бешено рано
В узком мундирчике
и в треуголке.
Юность поэта свободно и свято
Входит с экрана в мое поколение:
Из девятнадцатого
в двадцатый
Переливается
кровь вдохновения.
Ветреность,
влюбчивость,
пылкость младая!.. –
Песни лицейские
все перепеты...
Пусть в сорок первом
нас смерть поджидает –
Светится,
светится
«Юность поэта»!
...Что же вы, мальчики?
Что же вы?
Где же вы?..
Взмахи прощальные смуглой руки...
Дайте глоточек мне
воздуха свежего,
Чтоб на четыре хватило строки.
Снег на солдатских надгробиях грузен.
Но и под снегом видеть дано: «Солдаты:
Литовский... Липкин... Мурузин... –
«Пушкин»... «Дельвиг»... верный «Жанно»...
Шумно под осенним небосводом,
Кружит молодое воронье.
Говорят, они кричат к невзгодам –
Глупости все это и вранье.
Ах, я понимаю эту стаю!
Мысленно, что ворон молодой,
Над землей ликующе взлетаю –
Над судьбой и, значит, над собой.
Там внизу корявые березы;
Там внизу – холодная река;
Там внизу – похожая на слезы,
Мутная, предзимняя тоска...
Но летит большая стая рядом –
Весело, напористо, легко;
Вместе с нею я лечу над садом,
Крылья распахнувши широко.
Мне отстать от стаи невозможно
Кружит, кружит дружная семья.
Эта жизнь устроена надежно –
До случайной дроби из ружья...
Всё за долги: картины и офорты,
Смарагды и текинские ковры,
Меха, шелка, французские ботфорты...
Я продал все и вышел из игры.
Благополучье, умиротворенье –
Все отобрал мой справедливый Бог.
Но жесткой кисти нервное биенье
Остановить он все-таки не смог!
А нищета с раздумьем совокупны:
В развалины морщин я вдруг проник –
Глубины их мне сделались доступны –
И равен Богу стал любой старик!
Как занавес души – недвижность взгляда..
И вот живет на плоскости холста
Прощальных лет бессмертная триада:
Смиренье, Всепрощенье, Доброта.
Мне самому бывает непонятно:
Откуда на страданья брошен свет?
Но золота живительные пятна
Светло горят над темнотою лет!
А значит, не досада и обида
Сомнут мои могильные венки,
Когда заголосят псалом Давида
Прославленные мною старики.
7–10 января 1999, Тогучин
Не трогай старые свои полотна –
Не поправляй ни кистью, ни ножом:
Написанное некогда вольготно,
Прелестно в легкомыслии своем!
... Мальчишество, свирепые попойки;
Сырой подвальчик, пыльный чердачок;
Продавленные панцирные койки
И благодатной крепости «сучок»...
Молились на холсты, картоны, доски;
Наперекор эпохе и судьбе,
Сжигались гениальные наброски,
Как доказательство самим себе!
Все были Пикассо! И все Ван-Гоги!
И жизнь была бессонной мастерской,
Где боги возникали на пороге,
Слегка взмахнув классической рукой.
Не говори, что ты забыл про это,
Не говори, что стал совсем ручным, -
Что все твои доходные портреты –
Прямой упрек безумствам молодым.
Пусть твое имя звучно и почетно,
Но, чтобы знать точнее что почем –
Не трогай старые свои полотна,
Не поправляй ни кистью, ни ножом...
4 января 1999, Тогучин
Нет, я не зря, не зря
живу на белом свете:
Я вижу важный смысл
в делах моих простых.
Кричат мне «Здравствуйте!»
доверчивые дети,
И помнят старики
мой дилетантский стих.
Нет, я не проникал
сквозь узенькие дверцы,
И незаслуженных наград
не получал.
Но честно я глядел
в глаза единоверцам,
И честно сотни раз
мне зал рукоплескал.
Как всякий человек,
готовлюсь умереть я.
Но и в последний час
мне пропоет труба –
Как хорошо
мое двадцатое столетье,
Как хороша
моя негромкая судьба!
Наши старые афиши...
В жестком шелесте бумажном.
Снова прошлое вернулось,
Развернулось напоказ.
Как мы были даровиты!
Как мы были авантажны!
Как вприпрыжку выбегали
На поклоны в третий раз!
Наши старые афиши...
Теплым клейстером лепили
Их на тумбах, на заборах,
У фабричных проходных.
Их высушивало солнце,
Вьюги зимние лупили.
А мы с гордостью безумной
Любовалися на них!
Наши старые афиши...
Незабытые приметы
Очень смелых восхождений
К человеческим сердцам —
Сквозь галдящие буклеты,
Сквозь молчащие газеты,
Сквозь сомненье и терпенье,
Что присуще мудрецам.
Ходит занавес на кольцах
Не быстрее и не тише.
Кто-то юный авантажно
Снова скачет на поклон...
Наша слава притомилась –
Пожелтевшие афиши,
Как египетский папирус,
Тихо свернуты в рулон.
Приветствуют нас всюду на планете
(Наверное, не меньше, чем вчера),
Но говорят: «Артисты – это дети!»
И думают, что наша жизнь — игра.
А сердце каждого из нас в ответе
За сочетанье Правды и Добра.
Мы зорко видим при вечернем свете
И к этому готовимся с утра.
Смеемся иногда.
Но чаще – плачем,
Не слишком верим маленьким удачам,
Провалы не умея позабыть...
И низко кланяясь без лицемерья,
Мы простодушно ждем к себе доверья.
Актеры – дети?..
Очень может быть.
Ещё поклон: «Спасибо за вниманье!»
Прожектора тускнеет желтый глаз.
И занавеса пыльное шуршанье
На наши плечи наползет сейчас.
Стихают крепкие рукоплесканья.
Размазан грим. Усталость без прикрас.
Но зрителей неровное дыханье
Еще не скоро отойдет от нас.
Гастроли кончены. Пройти осталось мало
До низенького сонного вокзала.
На чемодан слетает мокрый снег.
В каком ударе мы сегодня были!
Как нас сегодня весело любили!
И как прекрасен наш недолгий век!
Все выучил. Все сделал, так, как надо.
Все внутренние связи укрепил.
Определил и паузы, и взгляды.
Всю жизнь минуте этой посвятил.
О, как тяжка твоих трудов громада!
О, как сегодня не хватает сил!
Передним краем выглядит эстрада,
Когда ты в луч юпитера вступил...
Не позабыть! Не дрогнуть и не сдаться!..
Охрипла глотка. Тяжелеет взгляд.
Ты сам с собой пришел сюда сражаться.
А зрители пророчески молчат.
...Но, кажется, победа за тобой –
Рукоплесканья кажутся пальбой.
Я весь набит опилками.
Я с вами тыщу лет!
А вы ко мне – затылками,
Как будто меня нет.
А вы – с пренебрежением:
«Подумаешь!» И вдруг
Глядите с изумлением
На примитивный трюк.
Я фокусами старыми
Набит, как чемодан, –
А вы идёте парами
В мой драный балаган.
Идёте с шоколадкою
Ко мне на рандеву.
А я над ширмой шаткою
С ухмылочкой живу.
Я – ваше удивление,
Абсурд и кутерьма,
Я – просто заблуждение
Ленивого ума!
Лицо всегда в ухмылочке...
Но в грудь всадите нож –
Посыплются опилочки.
Ну, что ж...
- Леонид Александрович ТвердяковРуководитель театра-студии "МаскаРад"
- Мария
Костицына - Александр
Гулькин - Арсений
Ларин
Когда мне последний вопрос зададут:
«Как жил в перепутанном мире?» –
То в книге моей между строчек прочтут
Судьбу ленинградца в Сибири.
Замерзшие птицы валились с небес,
Костер не желал разгораться.
И падал сибирский нетронутый лес
Под топором ленинградца.
Голодный, холодный, и плакать хочу...
И нету лазейки в ограде...
Но мужество тихо стучит по плечу:
«Держись, молодой ленинградец!»
Сибирь, поднимаясь средь стужи и мглы,
Навеки мне стала родною.
А парусник с адмиралтейской иглы
Все так же парит надо мною!
Чтоб взвесить минувшее, как надлежит, –
Тяжелые надобно гири:
«Ничто не забыто, никто не забыт» –
Написано и в Сибири...
Позвал знакомых птиц и маленьких зверей.
Для радости твоей
немалый труд затрачен, –
Ну, где же ты?
Ну, что же ты?..
Скорей!
Для радости твоей и дождик перестанет,
И ветер листодер по имени Борей,
И солнце октября
в глаза твои заглянет, –
Ну, где же ты?..
Ну, что же ты?..
Скорей!
…Звери серо-голубые –
Не упрямые, не злые
И красивые собой:
Голубой тигренок рядом
С кенгуру небеснозадым
И с мартышкой голубой...
Тут же клоуны играли –
Делали сальто-мортале,
Кувыркались на бревне;
Эти комики и мимы
Показались вдруг без грима
В синеватой седине.
И валялась на дорожке
В ледериновой обложке
Книга юности моей:
«Описанье знаменитых
И печально позабытых
Фокусов», за пять рублей.
В этой книге – превращенья,
Появленья, наважденья,
Скромненькие чудеса.
И от рампы балаганной
Свет расходится обманный –
Бедной славы полоса.
Как наивно и как мудро!
Как волшебно пахнет пудра!
Как доверчив сильный зверь!..
Фокусы и акробаты!..
Цирка добрые пенаты!..
Нет со мною вас теперь.
мы по Невскому шагаем;
Я держу её под локоть –
мы по Невскому вдвоем!
Всё мне здесь давно знакомо –
всё я видел, всё я знаю:
Это солнце, этот воздух,
этот лучший в мире дом!
Хорошо на Невском в дождик,
хорошо и в снег, и в слякоть;
Отражается в витринах
вся плывущая толпа.
Здесь никто не пожалеет,
коль захочется поплакать –
Потому что под ногами
жизни твердая тропа.
Я держу тебя под локоть –
мы без умолку болтаем...
А когда ж всё это было? –
нам уже не сосчитать...
Мы по Невскому проходим –
мы по вечности шагаем, –
Сколько там еще осталось –
раз, два, три, четыре, пять?..
В чужое зеркало гляделась,
А слезы застилали зренье.
В чужое зеркало гляделась –
Смотреть хотелось без конца.
А слезы застилали зренье –
И покривилось отраженье,
Преобразилось отраженье
Вдруг подурневшего лица.
Вдруг показалось, что сегодня
Сама себя обворовала.
Вдруг показалось, что сегодня
Сама себя ведет на суд.
Сама себя обворовала!..
И все-таки, как было мало,
Ах, боже мой, как было мало
Счастливых, краденых минут!
Здесь все чужое, нежилое –
Как будто на другой планете...
Здесь все чужое, неживое –
Отсюда надо уходить!
Как будто на другой планете,
Ты все вышучивал на свете,
Все принижал на белом свете...
И, все равно,— хотелось жить!
Ах, этот древний город
С огромными глазами,
Где узких улиц руки
Мне распахнулись сами!
На частых перекрестках
Прекрасно заблудиться!
Здесь что-то ожидает.
Здесь что-то приключится.
Вон, в джинсовом берете,
В брючишках из велюра
Гуляет Мефистофель
Под маской балагура.
Вот, подперев надежно
Копьем небесный свод,
В любви клянется вечной
Железный Дон-Кихот.
И варит доктор Фауст
Себе и нам на славу –
В сиреневой реторте
Прелестную отраву...
Ах, милый юный город!
Свободная походка!
Где май в оконных стеклах
Отображен нечетко;
Где я с самим собою
Полвека говорю...
А время, как фонарщик,
Подходит к фонарю.
- Александр Евгеньевич
Зубовкандидат искусствоведения, заведующий кафедрой актерского мастерства
и режиссуры, доцент Новосибирского государственного театрального института - Артур
МаркаровНовосибирский государственный театральный институт - Ксения
КараваеваНовосибирский государственный театральный институт
